МИРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
(М.: Эксмо, 2012. – 480 с.: илл.
)
Заметили ли, что музыка делает свободным ум?
дает крылья мысли? что становишься тем более
философом,чем более становишься музыкантом?[1]
Ф. Ницше
СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ. Музыка как социокультурное явление
О сущности музыкального искусства
О музыкальном звуке
О внутренней противоречивости музыки
О музыкальном произведении как объекте восприятия
О музыкальной культуре
Глава I. Пробуждение музыкальных способностей человека
Синкретизм культуры, синкретизм праискусства
Начала культуры, искусства, музыки
Оккультный элемент в музыкальной сфере
Музыка: первые достижения
Глава II. Музыка в культуре древнего мира
§ 1. Египет: музыка как элемент ритуалов и мистерий
Начала древнеегипетской музыки
Раннее и Древнее царства
Среднее царство
Новое и Позднее царства
§ 2. Передняя Азия: первые достижения в сфере музыки
Месопотамия: музыкальный опыт древнейшей культуры мира
Музыкальная культура Месопотамии: придворная парадность и мистическая сокрытость
Древнееврейская и финикийская музыкальные культуры
§ 3. Индия: изощренность и утонченность музыкальных практик
Веды как уникальный памятник музыкального искусства
Танцевальная, вокальная, инструментальная и театральная музыка: взаимосвязи и взаимовлияния
«Ученая» музыка: первые музыкальные системы
Теоретические вопросы композиции
Музыкальные инструменты в индийской культуре
От средневековья к современности
§ 4. Китай: причудливая символика музыкального искусства
Музыкальный компонент в жизни китайского общества
Музыкальные инструменты Китая
Семантика музыкального текста
§ 5. Античный мир: музыкальность как сущностная характеристика культуры
Музыка в древнегреческом обществе
Музыкальная тематика в древнегреческой мифологии
Музыка в контексте художественной жизни античного общества
Музыка в древнегреческом театре
Теоретическая проблематика древнегреческой музыки
Музыка в эпоху эллинизма и в Древнем Риме
Глава III. НА ПУТИ К ОБРЕТЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Средневековая культура: от христианского аскетизма к светскому гедонизму
Особенности музыкальной культуры Византии
Западная Европа: зарождение церковно-христианских музыкальных традиций и профессионализация музыкального исполнительства
Зарождение средневекового многоголосия
Средневековая теория музыки
Начала европейской нотной грамоты
Зарождение светской музыки: трубадуры, труверы, миннезингеры и др.
§ 2. Исламский Восток: простота и изощренность
Особенности развития музыкального искусства в странах исламского ареала
Музыка и ислам
Своеобразие профессиональной исламской музыки
Музыкальные инструменты исламского Востока
Исламская теория музыки
§ 3. Древняя Русь: от язычества к христианству
Языческие песнопения и обряды; их место в жизни древнерусского общества
Мирская культура и профессиональное искусство в Древней Руси
Христианизация древнерусского искусства: музыка в контексте православия
Музыкальный инструментарий Древней Руси
Древнерусские колокольные звоны
§ 4. Эпоха Возрождения: идея свободы творчества
Своеобразные черты эпохи на фоне музыкального процесса
Зарождение новоевропейской музыкальной традиции
Появление на свет оперы
Глава IV. ВРЕМЯ ЗРЕЛОСТИ
§ 1. XVII – XVIII века: между барокко…
Европа XVII – XVIII вв.: трудные времена и выдающиеся достижения
Западноевропейское музыкальное барокко
Новые формы новой музыки
Обновление музыкального инструментария
Иоганн Себастьян Бах
Георг Фридрих Гендель
§ 2. …и классицизмом
Особенности музыкального классицизма
Развитие инструментализма в лоне музыки классицизма
Венская классическая школа
Йозеф Гайдн
Вольфганг Амадей Моцарт
Людвиг ван Бетховен
§ 3. XIX век: эпоха музыкального романтизма
Несколько слов о романтизме и месте, занимаемом в нем музыкой
Многообразие творческих достижений композиторов-романтиков
Возникновение и развитие программного симфонизма
Оперное искусство XIX в.: два важнейших направления в развитии
Рихард Вагнер
Итальянская опера XIX в. и Дж.Верди
§ 4. Россия XIX века: вклад в европейское музыкальное искусство
Начало профессионализации музыкальной жизни на Руси – в России
Вхождение в общеевропейский музыкальный процесс
Русская музыка: многообразие стилевых направлений и школ
Петр Ильич Чайковский
V. ХХ ВЕК: НА РАСПУТЬЕ
§ 1. Расставание с прошлым
«Дебюссизм»
Русская музыка на рубеже веков. А. Н. Скрябин и С. В. Рахманинов
Очередной (или последний?) взлет западноевропейского симфонизма
§ 2. Поиски новых путей
Звуки, которые неизвестно, чем закончатся
Путь «в завтра» через «вчера»
Поиск будущего в фальсифицированном прошлом
С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович
Последние из могикан?
§ 3. Из ненаступившего будущего в постсовременность
Модернизм, авангардизм и др.
Повседневную жизнь — в музыку
Музыкальный постмодернизм
Отечественный авангард: гонимый, но не побежденный
§ 4. Путь в никуда?
Потребительская музыка: предельно общая характеристика
О музыкальных предпочтениях
Немного истории
От джаза к поп- и рок-музыке
Потребительская музыка и человек
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Будущее музыки — будущее человечества
Раскол или слияние?
Художественная девальвация
Музыка и техника
Кода
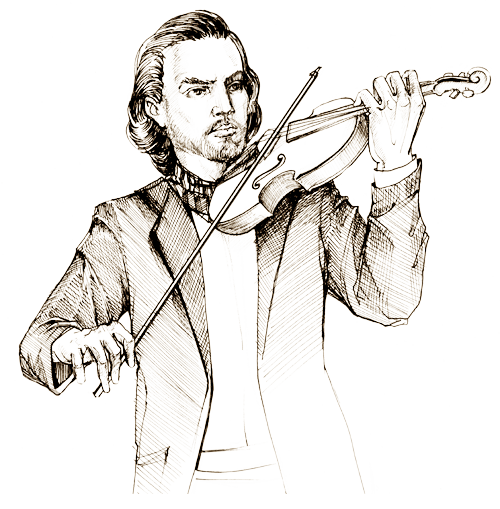
"Скрипач"
Рисунок Л. Терешко
Введение. О музыке как о феномене культуры
Музыка и музыканты. Это практически неисчерпаемая тема ― и для исследователей-ученых, и для различных видов искусства, посвящающих ей свои произведения, и для служителей и поклонников муз. За всю историю культуры о музыке, об этом абсолютно неповторимом феномене, «изобретение» которого человечество может расценивать как одно из самых великих своих достижений, написано множество теоретических работ ― музыковедческих исследований, эстетических трактатов и эссе, философских статей и монографий, а также литературных произведений — от стихотворных миниатюр до грандиозных романов, таких как «Доктор Фаустус» Т. Манна или «Жан-Кристоф» Р. Роллана. Изобразительное искусство сделало музыку одной из своих важнейших тем, уже в глубокой древности создавая образы певцов и танцоров, людей музицирующих и захваченных чарующими звуками, позже — запечатлевая знаменитых музыкантов на холстах и в скульптурах, используя изображения музыкальных инструментов в своих аллегориях, символических композициях. И т. д. Казалось бы, за столько тысячелетий (если вести отсчет, допустим, от VI в. до н. э., когда было положено начало пифагорейской теории музыки, составившей основу современного музыкознания) о музыке должно было быть сказано все. На самом деле до сих пор не существует даже общепринятого ее определения!
Что же является причиной разнообразия мнений, высказываемых по этому поводу? Вероятнее всего, внутреннее богатство этого феномена, который не поддается заключению в рамки дефиниции, даже если они не слишком строги. Собственно говоря, по той же причине отсутствуют общепринятые определения культуры, искусства, эстетики, религии и т. д. Поэтому и мы, не имея возможности дать краткий ответ, «ограничимся» ответом развернутым.
О сущности музыкального искусства. Начнем со слова «μουσική» (музыка), родившегося еще в Древней Греции. Смысловое поле его в античные времена было гораздо шире современного, поскольку, кроме нам хорошо известного, оно имело такие значения, как «песня, пение», «искусство», «поэзия» и даже «наука» и «образованность» (как эстетическая, так и научная). При этом смысл однокоренного с ним глагола «μουσίζω» идеально совпадал с современным представлением о занятиях музыкой: «играть на каком-либо инструменте, петь». Однако другой однокоренной глагол ― «μουσόω» истолковывался как «образовать, т. е. обучать, кого-либо в искусствах и науках», прилагательное «μουσικός» (мы бы сейчас перевели его как «музыкант») обозначало «образованный», а слово «μούσαι» (широко известный и неразрывно связанный с античной культурой термин «музы») переводилось как «мыслящие». В связи с этим обстоятельством становится более понятным прозвучавшее в диалоге Платона «Федр» утверждение, что философия (понимаемая, вероятно, как искусство мыслить) — это «высочайшее мусическое искусство». В результате оказывается, что музыка изначально, по самой своей природе, требовала от собственных «служителей» умения мыслить (поэтому, вероятно, и Ф. Ницше поставил философствование, отождествляемое им с проявлением свободы ума, в непосредственную зависимость от увлечения музыкой) и мыслить логично ― хотя музыкальную логику никак нельзя уподоблять логике формальной, математической, научной.
Таким образом, древние греки считали вполне органичным и естественным соединение рационального и эмоционального, строго логического и откровенно чувственного начал, все же отдавая в возникающем в результате единстве некоторое преимущество понятиям, в приведенных парах названным первыми. Это обстоятельство как раз и смущает нас, привычно рассматривающих не логичность, а иррациональность в качестве одной из важнейших характеристик музыки вообще, хотя идея рациональности сохраняла (правда, с переменным успехом) довольно прочные позиции в европейских представлениях о музыке и после завершения Античности (вплоть до эпохи романтизма). Так, доживший до первых проявлений этого художественного стиля в музыкальной сфере Г. В. Ф. Гегель все же считал, что «в музыке царят глубочайшая задушевность и проникновенность и вместе с тем строжайшая рассудочность, так что музыка объединяет в себе две крайности, которые легко делаются самостоятельными по отношению друг к другу»[2]. Собственно говоря, и мы не собираемся никого убеждать в том, что музыка чужда рассудочности, что она не терпит присутствия рационального начала и не предполагает или, тем более, не допускает наличия у музыканта и любителя музыки умения мыслить. Весомым аргументом против подобных суждений может, например, служить широко используемый (как в теории, так и на практике, в быту) термин «музыкальная мысль», отсутствие которой в исполняемой музыке делает последнюю неинтересной для подлинных ценителей.
Таким образом, не только в эпоху Античности, но и значительно позже предполагалось, что для разъяснения сущности феномена музыки необходимо использовать, как минимум, две взаимопротивоположных характеристики. Их содружество–соперничество непрерывно вносило изменения и уточнения в толкование смыслового ядра искусства звуков, но наиболее серьезные перемены в этом плане были обусловлены событиями, происходившими в мире музыки на протяжении, по меньшей мере, последних ста лет. В то же время эта обусловленность не является чем-то исключительным, поскольку формулировки, использовавшиеся в подобного рода толкованиях, всегда зависели от особенностей того типа культуры (исторического, национального, стилевого), в лоне которого они создавались. К сказанному можно добавить, что сложности с определением сущности музыки всегда были связаны и с тем, что на протяжении всей своей истории она оставалась явлением, внутренне в высшей степени разнообразным и даже неоднородным.
В процессе реализации стремления определить сущность музыки, как и в рамках любого иного рода попыток разрешить достаточно сложные проблемы, обладающие общечеловеческими, общегуманитарными масштабностью и значимостью, были выработаны различные исследовательские подходы. И мы попытаемся, предельно упрощая сложившуюся на сегодня ситуацию, показать принципиальные различия, имеющиеся между ними. В соответствии с одной из основных теоретических точек зрения, музыка понимается как искусство отражения, а в соответствии с другой — как искусство выражения. При этом очень важны ответы на вопросы: чтό отражается в первом случае и чтό выражается во втором? Например, пифагорейцы считали, что земная музыка — это отражение музыки мировой, которая, по мнению их полумифического лидера, постоянно звучит в космосе и столь же постоянно проникает в уши, а затем и в души всех живущих на земле людей, хотя их подавляющее большинство не способно ее услышать и тем более слушать. Прямые и опосредованные последователи Пифагора полагают, что именно специфичность происхождения музыки позволяет ей выразить абсолютно все — от красочного описания космических процессов до результатов кропотливого художественного анализа глубоких и тончайших чувств, переживаемых человеком, — на том неповторимом языке, которым она сама, по сути дела, и является.
Идея космической природы музыки (как в форме претендующей на научность теории, так и в виде в известном смысле художественной метафоры) и в наше время продолжает сохранять свою привлекательность. Так, выдающийся дирижер ХХ столетия Л. Стоковский писал, что «музыка представляет собой обобщенное проявление творческих сил Вселенной», что «это самый вдохновенный, интимный и прямой из всех языков»[3]. Полагая, что «основы музыки коренятся в Природе и в математических соотношениях», подобно тому как фундамент дома пребывает в самой земле[4], он вполне мог считать себя последователем великого Пифагора.
Платон в значительной степени поддерживал взгляды своих предшественников-пифагорейцев и, развивая их, даже сумел подсчитать, что небесный звукоряд охватывает 4 октавы плюс большую сексту. Однако в своем отношении к музыке философ был в известном смысле противоречив: определяя ее как божественное звучание сфер, он тем самым практически беспредельно возвеличивал ее; придерживаясь же в объяснении природы искусства своеобразно истолковываемой им теории подражания, низводил ее до третьестепенной по своей значимости деятельности. Он считал, что все главное в этом мире связано с высшими сферами, а не с их в большей или меньшей степени ущербными земными повторениями-воспроизведениями, являющимися всего лишь продуктами деятельности ограниченных в своих возможностях людей. Иначе говоря, по Платону, существовало две музыки: небесная, космическая, божественная — и земная, человеческая, несущая в себе также и некое негативное начало (проявлявшееся, например, в развращающем влиянии на индивида определенных ладов, звучания отдельных инструментов и т. п.). Достичь чего бы то ни было земной музыкант (но точнее ― поэт) может, лишь будучи вдохновлен Музой, которая приводит его в состояние одержимости. Благодаря этому он и оказывается способен творить, а по большому счету — всего лишь исполнять роль живого ретранслятора художественных, в т. ч. и музыкальных, замыслов богини.
Идею отражения, в античности представленную в виде идеи подражания (для обозначения последнего греки использовали термин «мимесис») окружающей среде, живой природе и вообще звучащему вокруг нас миру, поддерживали (конечно, каждый по-своему) и основоположник атомистической теории Демокрит, и создатель учения о происхождении видов Ч. Дарвин, и увлекавшийся музыкальной проблематикой немецкий экономист К. Бюхер, и советские марксисты, считавшие, например, что «музыка — вид искусства, который отражает действительность», и что «содержание музыки составляют… результаты отражения, преобразования и эстетической оценки объективной реальности в сознании музыканта»[5]. Философ Г. Спенсер усматривал истоки музыки в интонациях эмоционально возбужденной речи, что можно интерпретировать и как промежуточную точку зрения между той, что тяготеет к принципу отражения, и той, что придерживается идеи выражения. В то же время во взглядах множества теоретиков в той или иной мере оказались специфическим образом совмещены оба отмеченных нами подхода.
Конечно, нельзя не согласиться с тем, что механизм отражения, подражания, воспроизведения до какой-то степени действительно «работает» в музыке (иначе в принципе была бы невозможна так называемая программная музыка, а также та, что ставит своей главной задачей звукопись — создание звуковой картины, звучащего изображения), поскольку человек, бессознательно накапливая впечатления, полученные из внешнего мира, чаще всего не хочет и даже не способен полностью защититься, отрешиться от них, естественным образом пребывая под практически постоянным их воздействием. Не может быть сомнений и в том, что художественное творчество не должно пренебрегать связью с действительностью, с реальной жизнью. Даже столь далекий от «послушного» и примитивно трактуемого реализма писатель, каким был Андрей Белый, считал, что «всякая форма искусства имеет исходным пунктом действительность». Правда, несколько противореча себе, именно «музыку как чистое движение»[6] (а это замечание как раз и предполагает наиболее далекий отход от действительности) он называл в качестве конечного пункта все той же «всякой формы искусства».
Во всяком случае, если отражение конкретной действительности посредством абстрактных выразительных средств (только они и имеются в арсенале так называемой абсолютной, по терминологии Т. Адорно, музыки, т. е. музыки, не предназначенной для выполнения каких-либо дополнительных функций, даже ничуть не принижающих ее значения, — например, сопровождения танцев или пения музыки) в какой-то степени и возможно, то оно никак не может стать главной задачей этого вида искусства — хотя бы потому, что идея отражения окружающей нас среды средствами музыки, вернее абсолютизация этой идеи, низводит самое музыку до уровня некоего технического (пусть и сложного и даже выразительного в художественном отношении) средства, при помощи которого предпринимается попытка всего лишь проиллюстрировать внешнюю по отношению к человеку реальность. В большей или меньшей степени, но подобная абсолютизация принижает значение творца — композитора, сочиняющего музыку, а роль инструменталиста или певца относится к еще более низкому уровню — уровню пассивного ретранслятора авторского текста (притом что последний, напомним, понимается как более или менее творчески выполненная «калька» с действительности). Тем самым фактически полностью отрицается важнейшая задача исполнителя — интерпретировать музыкальный текст, исходя из личностного его понимания и выражая таким образом собственное художественное кредо.
Поэтому, наверное, не удивительно, что сторонников представления о музыке как о специфическом способе выражения эмоций, переживаемых ее творцом, в истории мысли было гораздо больше. Философы, в качестве точки отсчета для своих рассуждений использовавшие духовное начало, романтики, а также многие авторы, писавшие о музыке в XIX–ХХ вв., могли бы согласиться, например, с Г. В. Ф. Гегелем в том, что музыка «притязает на крайнюю субъективную проникновенность как таковую», что «она — искусство чувства, которое непосредственно обращается к самому чувству» и «постигает именно… внутренний смысл, абстрактное самосозерцание, приводя тем в движение средоточие внутренних изменений — сердце и душу как простой концентрированный центр всего человека»[7]. Мысль о том, что посредством музыки композитор выражает испытываемые им чувства, в известной степени разделяли и марксисты — сторонники теории отражения. Просто чувства эти они рассматривали преимущественно как результат внешних воздействий.
С другой стороны, композиторы, считавшие музыку прежде всего искусством выражения, не отказывались от возможности воссоздания музыкальными средствами разнообразных звучаний, подслушанных ими в природе, в окружающей их социальной среде. Однако на первом плане у них все же пребывала мысль о том, что прежде чем все эти звуки становились музыкальным текстом, они подвергались неким преобразованиям во внутреннем мире сочинителя, который переживал их, «переводил» на язык звучаний и созвучий и таким образом создавал собственный музыкальный образ — субъективно прочувствованный образ услышанного.
И все же, как нам представляется, наиболее глубокой, емкой и обладающей столь необходимой для теоретической дефиниции обобщенностью является уже ставшая классической «формула», предложенная советским музыковедом Б. В. Асафьевым. В соответствии с ней, музыка признается искусством интонируемого смысла. С одной стороны, она позволяет избавиться от недостатков односторонних подходов к определению сущности этого вида искусства, а с другой — учитывать присутствие в музыкальных произведениях как тех воздействий, которые оказывает на музыканта окружающая его среда, так и тех чувств и мыслей, которые он стремится выразить в сочиняемом или исполняемом им произведении. Тем самым музыка понимается как сложная и внутренне противоречивая форма выражения не только сиюминутного душевного состояния индивида, но и его духовного мира в целом, а именно его мировоззрения, в основе которого могут лежать сложнейшие философские принципы и представления, мирочувствования, присущего только ему как уникальному субъекту восприятия, мироощущения, характеризующего его как неповторимую личность, и т. д.
Не углубляясь более в обсуждаемую проблему, упорядочим уже сказанное: понимание сущности музыки в любом случае обусловлено и своеобразием художественного мировоззрения конкретной личности, и стилевыми чертами данного художественного направления, и современным состоянием как музыкального искусства в частности, так и всего искусства в целом, и содержанием и специфическими особенностями актуального состояния общества, и т. д.
Музыка оказывается в высшей степени органично вписанной в социокультурный контекст каждой конкретной эпохи, поскольку она «как воплощение человеческого духа не может не находиться во взаимосвязи с остальными родами его деятельности ― с современными ей творениями поэтического и изобразительного искусства, с художественной, социальной, научной ситуацией эпохи, наконец, с индивидуальными переживаниями и убеждениями автора»[8].
В настоящее время, когда радикальные изменения произошли практически на всех «фронтах» общественной жизни, они не могли не затронуть и сферу музыки. Той музыкальной ситуации, которая была характерна для XIX или даже для середины ХХ в., сегодня уже не существует. Существенным образом изменились и сама музыка и отношение к ней. Так, если классическое, ставшее продуктом Нового времени, представление о музыке опиралось на трех «китов» ― мелодию, гармонию и ритм, то ХХ век, «сочиняя музыку», постепенно научился обходиться и без мелодии — под которой (по И. В. Способину), понимается одноголосно выраженная музыкальная мысль, и без гармонии — в ее классическом толковании выразительного средства ладо-тональной музыки, основанного на объединении тонов в созвучия и последовательности созвучий, и даже без ритма — если понимать под последним единую метроритмическую организацию музыкального произведения. Все это служит основанием для признания того, что современная музыка пребывает в процессе существенных для ее будущего перемен.
О музыкальном звуке. В контексте отмеченных изменений в музыкальной сфере следует обратить особое внимание на то, что существенным образом изменилось отношение к звуку — наименьшему структурному элементу музыки, ее, как казалось до сравнительно недавнего времени, непоколебимой основе, универсальному «первокирпичику». Этот вопрос неразрывно связан с признанием или отрицанием социокультурной обусловленности восприятия музыкального звука. Так, существует довольно распространенная точка зрения, в соответствии с которой «звуки сами по себе никакой эмоциональной выразительностью не обладают и из анализа свойств самих звуков мы никогда не сумеем вывести законов их воздействия на нас. Звуки становятся выразительными, если этому способствует смысл слова. Звуки могут сделаться выразительными, если этому способствует стих»[9]. В такой позиции, безусловно, имеется рациональное зерно: если верно, что «на любой тон мы проецируем какое-то свое внутреннее напряжение»[10] (а это действительно так или, как минимум, вполне возможно, что так), то абсолютного значения этот любой тон иметь не может.
Однако существует и принципиально иной подход к решению данной проблемы. Например, музыковед Э. Ганслик (XIX в.) считал, что «звуки уже от природы и по отдельности обладают символическим значением, воздействующим на нас помимо всякого художественного намерения и до него». Проводя аналогию с другими видами искусства, он утверждал, что «каждый цвет наделен для нас специфическим характером», поскольку «каждый цвет — не простая цифра, которую ставит художник, куда захочет, но сила, самой природой приведенная во внутреннее соответствие с определенными настроениями»[11].
Близкая точка зрения была сформулирована и в советском музыкознании. В соответствии с ней, «даже взятые в отдельности музыкальные звучания обладают уже первичными выразительными возможностями. Каждое из них способно вызвать физиологическое ощущение удовольствия или неудовольствия, возбуждения или успокоения, напряжения или разрядки, а также синестетические ощущения (тяжести или легкости, тепла или холода, темноты или света и т. д.) и простейшие пространственные ассоциации»[12]. Разделяя эту позицию, добавим, что творчеством В. В. Кандинского и его многочисленных последователей было фактически доказано самостоятельное значение цвета и что о цветовых представлениях, вызываемых в воображении слушателя звучанием определенного тона, говорили и Н. А. Римский-Корсаков, и А. Н. Скрябин (разработавший даже специальную схему, при помощи которой показал соответствие тональностей квинтового круга цветовому спектру), и некоторые другие музыканты.
Но раз звук может вызывать однозначное (хотя и, безусловно, субъективное) представление о том или ином цвете, значит, каждый тон несет в себе некую информацию, которую просто нужно уметь считывать. Кроме всего прочего, не будем забывать, что вопрос о наличии у звука индивидуального характера был решен положительно уже много столетий тому назад. Например, в культуре Древней Индии существовало представление о том, что каждой из семи ступеней звукоряда присущи пол и форма, что ей соответствуют определенные цвет, планета, божество, что в ней сидит бог именно этого звука, что последний обладает особой эмоциональной окраской и, даже будучи воспроизведен отдельно, способен вызвать у слушателя специфическую эстетическую реакцию. Таким образом, проблема состоит в сложности обнаружения в звуке каких-либо смыслов, поскольку для этого нужно, как минимум, обладать музыкальным слухом и способностью эти смыслы обнаруживать, чем могут похвалиться лишь немногие представители рода человеческого.
Обладавший уникальным слухом российский звонарь К. К. Сараджев слышал 243 составляющих каждого отдельного звука, различал тональности цвета, людей, природных явлений. На этом основании легко предположить, что каждый тон на самом деле говорил ему о чем-то конкретном и определенном.
Таким образом, мы можем признать правоту древних индусов и сторонников взглядов Э. Ганслика. С другой стороны, если эта индивидуальность звука столь трудно уловима и ее может обнаружить лишь сравнительно небольшая часть людей, населяющих Землю, то без особого риска можно согласиться и с Л. С. Выготским.
Наконец, приведенные примеры свидетельствуют о том, что само признание звучания музыкальным, некоей совокупности созвучий ― художественным произведением и т. п. обусловлено возможностью их адекватного восприятия. В противном случае они практически для нас не существуют, хотя физическое их существование не прекратится: если звук не был никем услышан, то никто не может сказать, что он все-таки прозвучал…
Однако со звуком связана еще одна проблема, вероятно, гораздо более существенная для судеб музыки, поскольку последствия ее решения коснутся всех поклонников этого вида искусства. Издавна существуют вполне устоявшиеся характеристики музыкального звука, в соответствии с которыми учитываются его высота, громкость, длительность и тембр. Признанию их не мешало ничего вплоть до тех изменений, что пришли в музыку, во-первых, с возникновением джаза и различных авангардных музыкальных направлений, во-вторых, благодаря чисто техническим изобретениям, существенно сказавшимся на музыкальной стороне социального бытия, в-третьих, в результате предвиденной Ф. Ницше переоценки ценностей (естественно, не столько художественных, сколько общекультурных), в-четвертых, в силу обретения определяющего значения для жизни современного общества такими социокультурными тенденциями, как глобализация, локализация, превращение потребительской культуры в фундаментальный для судеб человечества фактор и т. д.
Дело в том, что с начала ХХ в. композиторы стали применять звуки, которые еще в недавнем прошлом рассматривались как шумы: скрипы, трески, скрежеты, хрипы и т. п. Этим увлекались, например, представители так называемого «брюитизма» (от франц. bruit — шум), сторонники футуризма, дадаизма. Конечно, подобные примеры в истории музыки можно найти и раньше. Например, И. Штраус-сын в одной своей партитуре использовал пистолет. Но это было не более чем остроумной шуткой талантливого музыканта, не имевшей непосредственно музыкального смысла. Позже к внемузыкальным шумам прибавились немузыкальные приемы игры на струнных (ведение смычка с «неигровой» стороны подставки, удары смычком и пальцами по деке и др.) и духовых (извлечение из инструментов разного рода шипов, свистов и т. п.), а потом и разнообразные музыкообразные звуки, производимые различными современными аппаратами — электронными инструментами.
Принимая во внимание все сказанное, приходится констатировать, что либо приведенное выше асафьевское определение сущности музыки в известной мере устарело, либо пришло время говорить о рождении нового художественного явления, основанного на использовании звука. В любом случае совершенно очевидно, что музыкальное искусство претерпевает очередное — и на этот раз, наверное, наиболее глубокое и радикальное — превращение, в результате которого (на что хочется надеяться) ему все-таки удастся, используя все имеющиеся в арсенале современного профессионала-композитора выразительно-изобразительные средства и способы звукоизвлечения, сохранить статус носителя и хранителя смыслов — мыслей и чувств, пережитых и переживаемых ее создателем. Но не исключено, что постепенно оно становится некоей совокупностью (в известном смысле механической) самых разнообразных (чаще всего придуманных, продуманных и рационально просчитанных — вот он всплеск новой рациональности!) форм и приемов, имеющих своей целью специфическую организацию любых возможных звуков и их сочетаний с целью оказания более или менее сильного акустического и, как следствие, психофизиологического и психологического воздействия на слушателя. Естественно, что продукты творческой деятельности, относимые к музыке в ее традиционном и «поставангардном» вариантах, будут существенно отличаться друг от друга. Впрочем, может, мы и ошибаемся.
Во всяком случае, музыка как с теми или иными оговорками традиционно понимаемый (т. е. в той или иной степени соответствующий асафьевскому определению) феномен либо вообще прекратит свое существование, сохранившись лишь в виде «музейного» экспоната, либо, пережив время тяжелейшего кризиса, найдет в себе силы, а главное — глубинные потенции для продолжения в новых условиях тех традиций, которые с той или иной степенью последовательности формировались и с той или иной степенью тщательности оберегались на протяжении многих тысячелетий сотнями поколений музыкантов. На карту поставлен вопрос о жизни и смерти музыкального искусства.
О внутренней противоречивости музыки. Мы уже обратили внимание читателя на то, что музыка, рассматриваемая как некое гипотетическое целое, внутренне в высшей степени неоднородна и противоречива (с чем мы еще неоднократно будем сталкиваться в настоящей книге). В ней (с одной стороны, умышленно и обдуманно, а с другой стороны, изначально и спонтанно) объединяются два, по большому счету, взаимоисключающих начала: рациональное и эмоциональное, в единстве с которыми выступает еще одна пара противоположностей — интуитивное и сознательное, спонтанное и подготовленное, случайно найденное и продуманно «изобретенное». О возможности сосуществования подобного рода пар противоположностей говорил еще французский философ А. Бергсон, считавший, например, что «не бывает интеллекта, где не было бы следов инстинкта, и в особенности нет инстинкта, где не присутствовала бы частичка интеллекта»[13}.
Диалектическая связь инстинкта и интеллекта, а следовательно, и интуиции и расчета, очень ярко обнаруживает себе в музыке, проявляясь, в частности, в столкновении играющей в ней столь важную роль импровизации с необходимостью соблюдения самого разного рода правил, к освобождению от диктата которых она приступила еще в XIX в. Можно предположить, что основанием для импровизационного характера музыки (а музыка начиналась с импровизации и до сих пор во многом остается искусством импровизационным) является именно интуиция, естественно интуиция музыкальная.
Как писал Б. Асафьев, «в сущности, импровизация и является возведением принципа творческого изобретения как носителя неожиданности в руководящий фактор оформления. Пределы этой неожиданности — всегда социально детерминированы и ограниченны, но тем не менее в диалектике изобретения и инерции — сущность становления музыки»[14].
Однако нужно помнить, что и импровизация, даже вполне сознательно претендующая на статус абсолютно свободной в своем существовании и развитии, с неизбежностью начинает утрачивать присущую ей спонтанность (это относится даже к принципиально импровизационному искусству джаза), формируя некие традиции и нормы и все в большей степени используя уже наработанные приемы и обороты, на смену которым обязательно приходят новации и открытия, рано или поздно в свою очередь превращающиеся в банальности и штампы.
Правда, в связи с этим следует иметь в виду, что любые банальности «в руках» гениального творца наполняются новым смыслом и, обогащенные, вновь привлекают внимание слушателя своей неординарностью. Кроме того, такие определения, как «банальности» и «штампы», применимы только к второсортной «музыкальной продукции» — будь то ни на что не претендующий шлягер или обнаруживающая свою художественную несостоятельность симфония. Опасностью перерождения новации в музыкальный трюизм обусловлена необходимость особого отношения к произведениям выдающихся композиторов, внесших существенный вклад в золотой фонд мировой музыки. В данном случае исключительная ответственность ложится на исполнителя, который обязан в своей интерпретации добиться того, чтобы знакомая всем музыка, оставаясь в целом верной замыслу ее автора, звучала по-новому, свежо, так, как если бы она была сочинена именно в тот момент, когда ее воспринимает увлеченный и восхищенный слушатель. В ином случае даже самое выдающееся произведение рискует превратиться в повторение пройденного, стать бескрылым шлягером. Таким образом, музыка представляет собой сложное и постоянно требующее обновления единство традиций и новаций, импровизационного начала и, условно говоря, классических, т. е. устоявшихся, норм. Миссия же ее обновления оказывается возложенной не только на композитора, но и на исполнителя.
Вопрос об импровизационном характере музыки органически связан с ее глубинными корнями, с музыкой племенной, этнической, народной, т. е. с теми временами, когда она создавалась безымянными музыкантами, не имевшими практически никакого специального образования и тем не менее достигавшими в сфере своих — сперва случайных, а потом и постоянных — занятий выдающихся результатов. Многочисленные сочинения в течение целого ряда веков и даже тысячелетий появлялись на свет как бы из самого лона народной жизни, и на протяжении тех же столетий и тысячелетий происходило становление музыки профессиональной. Советский музыковед Л. А. Мазель выделял три стадии исторического формирования специфических свойств музыкального искусства: фольклорную, т. е. народную, и две профессиональные — устной и письменной традиции. Однако, учитывая, что становление профессионализма — это крайне растянутый во времени процесс, что повышение его уровня происходило на протяжении веков, что четкого критерия, для того чтобы отличить древних профессионалов (под которыми мы понимаем специально обученных и постоянно практикующих музыкантов достаточно высокого уровня) от любителей, у нас нет и быть не может и что, наконец, все столь давние события покрыты мраком неизвестности, можно предположить, что музыка, по большому счету, никогда не существовала как нечто однородное. Испокон веков она состояла из двух в достаточной степени самостоятельных элементов — музыки «любительской» (в узком смысле народной) и профессиональной (которая длительное время также была народной ― племенной, этнической и, по логике вещей, просто не может не быть младше первой).
По своему статусу как раз профессиональная музыка должна была бы проявлять бόльшую самостоятельность и независимость. Однако (в большей степени на первом этапе и в меньшей — на последующих) именно она постоянно оказывалась в роли «просительницы» и «нахлебницы», которая жила во многом благодаря милости и щедрости своей не столь уж и стремившейся к славе и наградам, а в целом гораздо менее удачливой (если иметь в виду «отмеченные» успехи) предшественницы-современницы — музыки народной. В настоящее же время у нас слишком мало оснований утверждать, что зависимость профессиональной музыки от музыки народной сохраняется; и, возможно, как раз в этом и состоит одна из причин кризиса современной музыки.
С разделением музыки на профессиональную и народную (точнее все же — любительскую) тесно связано ее деление на сакральную и профанную, или религиозную и мирскую, или церковную и светскую. Многие исследователи придерживаются мнения, что любое искусство в своих истоках связано с сакрализованными обрядами, представлениями, настроениями и что «в искусстве скрыта непроизвольно религиозная сущность»[15]. На наш взгляд, близость художественной сферы к религии в наибольшей мере обнаруживается именно в музыке, без которой просто не мог обойтись никакой, и прежде всего религиозный, обряд.
Столь высокая потребность в обрядовой музыке уже в первобытном обществе привела к тому, что именно среди участников древних ритуалов и стали появляться первые музыканты-профессионалы. Кроме того, напомним, что основным содержанием исполнявшихся песен, были, вероятно, складывавшиеся в то время мифы, а главными героями в них, конечно же, являлись боги (и герои). Поэтому, хотя мифология отнюдь не тождественна религии, можно предположить, что и она внесла свой вклад в придание сакрального характера пользовавшимся наибольшей популярностью у истоков профессионального музицирования текстам. В то же время необходимо отделять музыку, выполнявшую сугубо обрядовые, в т. ч. и религиозные, функции, от музыки более поздних времен, которая, даже сохраняя верность религиозной тематике, обретала художественную, эстетическую, культуральную самостоятельность. (Собственно говоря, то же самое можно сказать о любом артефакте, о любом жанре искусства, о любом типе прикладной музыки: достигая высокого уровня художественности, они неизбежно обретают самостоятельное значение.)
Внутренняя противоречивость музыки в связи с затронутым вопросом о ее самостоятельности проявляется и в несколько ином аспекте: в соотношении ее способности к автономному существованию ― и непосредственной обусловленности социальными процессами (что проявляется в тенденции, выражающей, так сказать, служебное использование музыкальных форм). Соглашаясь с тем, что «движущие силы музыки отнюдь не являются факторами абсолютно самостоятельными и их возможные проявления… социально детерминированы»[16], а также пытаясь разобраться, как и по какой причине музыка делала свои первые шаги, мы можем увидеть, что на этом этапе она обнаруживала свою практически полную зависимость от общественных условий, складывавшихся на заре существования человеческого общества.
В то же время недопустимо и преувеличивать, а тем более абсолютизировать значимость функционального аспекта музыкального искусства. Ведь если бы в самом индивиде не обнаруживалась неуничтожимая потребность в музыкальном творчестве, никакие социальные запросы не смогли бы привести к его зарождению и расцвету. И все же эта «врожденная» склонность музыки к выполнению разнообразных прикладных задач, ее способность создавать нужный эмоциональный фон, требуемое в данный момент психологическое состояние (у отдельного ли индивида, у значительного ли количества людей), умение выполнять разнообразные служебные функции и т. п. сохранялись на протяжении всей ее истории и вновь расцвели пышным цветом в сравнительно недавнее время.
В процесс растянувшихся во времени изменений, происходивших и происходящих в рамках взаимодействия автономности и функциональности музыки, свою лепту внес и технический прогресс. Для более обстоятельного разъяснения этого тезиса приведем характеристику третьей стадии исторического формирования специфических свойств музыкального искусства: «Эту стадию отличает не самый факт наличия нотации, а то, что нотный текст предназначается не только непосредственно для исполнения, но и для издания и становится одной из форм социального бытия произведения, в известном смысле — самим произведением, допускающим разные исполнительские интерпретации, подобно тому как драма, будучи произведением литературы, допускает различные сценические воплощения». Поэтому «в европейской музыкальной культуре последних столетий произведение существует как бы в двух ипостасях, каждая из которых необходима: в виде множества реальных звучаний и в виде лежащего в их основе нотного текста, представляющего собой законченный и объективированный результат творческого труда композитора и фигурирующего, как и реальное звучание, в качестве “социального предмета” (в частности, он покупается, продается, выдается в библиотеках)»[17].
Теперь же, на наш взгляд, нельзя не учитывать того, что в ХХ столетии началась следующая, не предусмотренная Л. А. Мазелем, стадия, когда основное значение стал приобретать уже не лежащий в магазинах и библиотеках нотный текст, но текст звучащий, причем не только и даже не столько исполняемый «вживую», сколько воспроизводимый с помощью разнообразных технических устройств. И этот момент становится во многих смыслах определяющим в жизни современного общества.
«Мысль, пытаясь определить природу и функцию музыки, постоянно витает вокруг чистого понятия игры»[18], — писал голландский теоретик Й. Хёйзинга. И он был безусловно прав.
Довольно близок только что сказанному вопрос о роли, выполняемой в музыке игровым началом. При этом нужно иметь в виду, что толкование сущности игры не исчерпывается представлением о ней как о забаве, развлечении, релаксации и т. п., поскольку существуют и серьезные (что не тождественно характеристике «скучные») игры, в которых развлекательная функция отходит на второй план. Серьезная игра (как и любая игра вообще) требует от человека играющего свободы и фантазии, творческого подхода к совершаемым им действиям, а с другой стороны (но это уже касается только серьезной игры), не допускает непрофессионализма, неуважения к самой игре и к партнеру, пренебрежения своими обязанностями игрока и т. п.
Музыкант — это, по сути дела, серьезный игрок, и его профессионализм во многом обусловлен его же серьезностью. Как дурачащийся клоун гораздо менее смешон, чем его «серьезный» собрат по клоунскому цеху, так и забавляющийся музыкант гораздо менее музыкант, чем его «серьезный» коллега. В то же время если он хотя бы в малой степени не игрок, то он и никакой не музыкант, поскольку музыка, как мы уже говорили, — это импровизация, а импровизация — это в т. ч. и риск, решаясь на который человек играет с опасностью возможной неудачи. Т. Адорно утверждал, что «там, где вкус отверг последние следы зеленой комедиантской повозки, там нет музыки»[19]. Хочется думать, что имел он в виду не несерьезность как таковую, а именно ее следы, по которым только и можно понять, что для музыки, как и для всего искусства вообще, характерна известная условность, как раз и выражающая игровой смысл происходящего. С одной стороны, характер условности нужно уметь создавать и сохранять, а с другой — обнаруживать и ощущать.
Попутно заметим, что присутствие игрового начала в музыке, пожалуй, позволяет объяснить ту настойчивость, с которой в самые разные исторические и культуральные эпохи между музыкантами устраивались соревнования, хотя уже достаточно давно известно, что давать оценки «лучше» и «хуже» в связи с музыкой, искусством, культурой в целом крайне трудно или вообще невозможно.
Еще одна противоречивая черта музыки, точнее музыкального произведения, заключается в том, что оно, как и любое художественное явление, воспринимается не просто как физический объект и оказывает на реципиента не только физическое воздействие, но вызывает у него и сложные психофизиологические и собственно психические реакции. На основе последних возникает сложная в психологическом отношении ситуация: «чтобы что-то увидеть, что-то услышать, то есть что-то предметно определенное или только ценностно-значимое, весомое, мало одних внешних чувств, мало одного “невидящего глаза и шумящего уха” — говоря словами Парменида»[20]. Смысл этого совета заключается в том, что физического зрения и слуха для постижения, по большому счету, непостижимого, каковыми и являются подлинное произведение искусства, его содержание, его смысл, явно недостаточно и что в смотрении и слушании должно присутствовать некое интуитивно-разумное, мистическое и в то же время неразрывно связанное с интеллектом начало, без участия которого проникновение в суть вещей, особенно если эти вещи имеют отношение к искусству, невозможно.
Еще более определенно по тому же поводу высказался психолог Б. Христиансен: «Главное в музыке — это неслышное, в пластическом искусстве — невидимое и неосязаемое»[21]. К сожалению, восприятию этого неслышного, невидимого и неосязаемого нельзя научить, а их смысл невозможно объяснить и проиллюстрировать. К их обнаружению и постижению каждый человек должен идти самостоятельно. На несколько иную сторону описанного явления обращал внимание отстаивавший «свободу восприятия искусства», понимавшуюся им как «врожденное свойство человеческого духа», Л. Стоковский: «В музыке каждый должен думать и чувствовать за себя». А поскольку мы все разные, постольку «и восприятие музыки у всех людей разное»[22].
Однако тот факт, что миллионы людей способны получать удовольствие от одних и тех же музыкальных произведений, вселяет надежду на то, что они, несмотря на свою непохожесть, все-таки способны прийти к взаимопониманию, в т. ч. и по другим, гораздо более приземленным, практическим, повседневным, а поэтому ― немаловажным вопросам. В результате существенным фактором становится то, на основе чего они объединяются, какую музыку слушают и как ее воспринимают и понимают. Секрет заключается в том, что подлинное искусство помогает человеку формировать и сохранять свою самость, в то время как эрзац-искусство нивелирует его индивидуальные, личностные черты и особенности. В первом случае появляется основание для общения индивидуализированных личностей, во втором — происходит объединение деиндивидуализированных «человеков-массы» (термин Х. Ортега-и-Гассета), хотя как в первом, так и во втором «средством» объединения является музыка. Просто «музыки» эти очень разные…
О музыкальном произведении как объекте восприятия. С только что затронутым тесно связан еще один вопрос — о характере воздействия музыки на слушателей. Еще в мифологические времена привлекало внимание то, что звуки музыки, с одной стороны, представляют демонические силы природы, а с другой — обуздывают их[23] (во всяком случае, способны это делать). Понимание музыки как внутренне в высшей степени противоречивого явления — как неукротимой природной силы, заявляющей о себе в самòй первичной необузданности духа, и как средства укрощения этой силы — необыкновенно важно. Осмыслению именно этой оппозиции посвятил немало страниц в своих произведениях Ф. Ницше, который противопоставлял дионисийское и аполлоническое начала, лежащие в основании соответственно оргиастичного и стремящегося к гармонизации искусства. Отсюда следуют самые разные выводы.
Во-первых, совершенно очевидно, что музыка способна и должна стать одним из самых эффективных средств воспитания человека, и в первую очередь детей. Причем воспитания не только эстетического, художественного, но и общегуманитарного, интеллектуального, подлинно человеческого. Л. Стоковский, основываясь на своих детских ощущениях, признавался, что «музыка может быть одним из самых могучих влияний в жизни детей именно потому, что дети так восприимчивы к ритму и мелодии»[24]. Но, как известно, ее воздействие способно привести и к негативным результатам и последствиям. Поэтому ― насколько чутко и продумано, чтобы не повредить только-только формирующейся личности, должна она использоваться!
Однако современная музыкальная ситуация не дает поводов для надежд на широкое и достаточно эффективное применение позитивных возможностей музыки и музыкальных средств в воспитательных целях. При этом мы отнюдь не отождествляем эстетическое воспитание с нравственным, поскольку во многом они не совпадают. В нашем случае речь идет о «воспитании чувств», о формировании способности (или хотя бы стремления) слышать и понимать (угадывать) смысл звучащей музыки, о том, чтобы слушание музыки помогало выработке умения соблюдать эстетическую дистанцию между воспринимаемым и воспринимающим, а также о многом-многом другом, о чем невозможно сказать мимоходом. Задача музыкального воспитания — научить отличать красоту от уродства, красивое уродство от красоты, красоту, более красивую, чем она сама, от красоты подлинной и т. д. Выбирать же наш воспитанник вынужден сам…
«Мы, не будучи ни среди прекрасного, ни среди безобразного и не имея возможности судить ни о том, ни о другом, обречены на безразличие, — писал французский философ Ж. Бодрийяр. — Но по ту сторону этого безразличия возникает, подменяя собой эстетическое наслаждение, ослепление иного рода. Раз и навсегда освобожденные от своих взаимных оков, красота и уродство как бы разрастаются, становясь более красивыми, чем сама красота, или более уродливыми, чем само уродство»[25].
Следует также учитывать, что музыка — единственный вид искусства, воспринимаемый только слухом. Конечно, слуховое восприятие играет значительную роль и тогда, когда речь идет о театральных постановках, кинофильмах и пр. Однако в этих случаях оно в значительной степени (хотя и существенным образом) всего лишь дополняет зрение: недаром кинофильм и спектакль мы прежде всего смотрим, а музыку и даже театральную (но музыкально-театральную) постановку — слушаем. С другой стороны, нельзя забывать, что на музыканта-исполнителя мы тоже смотрим и что его поведение, телодвижения, мимика дополняют наше музыкальное восприятие, очень часто, хотя и далеко не всегда, способствуя его полноте и адекватности.
Нет нужды специально доказывать, что слуховое восприятие существенно отличается от зрительного. Вопрос сводится к тому, в чем это отличие состоит? Прежде всего следует отметить, что зрительное восприятие гораздо реже вызывает у реципиента столь же активную психофизиологическую реакцию, что и слуховое, поскольку неприятных зрительных воздействий, которые сами по себе могли бы раздражать глаз и нервную систему, в повседневной жизни не так уж и много. Кроме того, их легко избежать, закрыв глаза или отвернувшись. Причем отталкивающее воздействие на человека главным образом оказывает внешний вид явлений, отрицательных по своему существу или по вызываемым ими ассоциациям, а корни последних могут уходить в глубины его подсознания, в архетипические пласты представлений. Например, темнота, как правило, неприятна человеку и часто вызывает у него (по далеко не всегда понятным причинам) страх, но может воздействовать на него и успокаивающе. Слуховые же впечатления гораздо более активны, а поэтому и «отношение к ним человека гораздо более осторожно и “избирательно”. Желанно лишь то, что в данный момент интересно, доставляет удовольствие или нужную информацию. Все излишнее, не необходимое чаще мешает»[26].
В связи с этими двумя способами восприятия (зрительным и слуховым) возникает вопрос об избирательности управляемой и неуправляемой. Ведь именно потому, что глаза можно практически в любой момент закрыть, зрение и обладает бόльшими избирательнымивозможностями, чем слух. Следует учитывать также, что глаз избегает не только и не просто зрелищ, вызывающих неприятные ассоциации; веко в значительной степени защищает его и от воздействий, грозящих ему болезненными ощущениями (слишком яркий свет, летящие насекомые, брызги, пылинки и т. п.), причем защита эта осуществляется фактически на подсознательном уровне. Таким образом, субъект может активно вмешаться в процесс зрительного восприятия, но он в значительной мере бессилен перед «звуковой агрессией».
«Глаз прикрывается веком, его нужно еще открыть, ухо открыто, ему приходится не столько направлять внимание на раздражители, сколько защищать себя от них». Если глаз, как канал восприятия внешнего мира, активен, то ухо пассивно и если «антропологическое отличие уха от глаза приходит на помощь музыке в ее исторической роли идеологии»[27], то оно же в значительной степени уменьшает самостоятельность слушателя музыки, поскольку защищаться от внешних раздражителей, в т. ч. и музыкальных, нужно уметь и, главное, желать. Отсутствие как подобного умения, так и соответствующего желания в значительной степени лежит, например, в основе всеобщей капитуляции перед экспансией потребительской культуры, прежде всего звучащей, которая проникает повсюду и использует любые, к тому же постоянно умножающиеся в числе и расширяющие свои технические возможности, средства.
С другой стороны, вряд ли можно однозначно утверждать, что неприятные зрительные ассоциации обязательно нежелательны. Дело в том, что за последние десятилетия массовая тяга к созерцанию — в кино, по телевидению, в Интернете и даже в реальной жизни — того, что вызывает сугубо негативные эмоции, усилилась: десятки миллионов кино- и телезрителей с неподдельным удовольствием смотрят кровавые детективы и фильмы ужасов, цинично-откровенные телерепортажи с мест трагических происшествий и т. п. Но это обстоятельство связано, во-первых, с мощнейшим и все усиливавшимся на протяжении последних 110 – 120 лет влиянием средств массовой информации и потребительской культуры на сознание рядового члена общества (причем как развитых, так и достаточно отсталых в экономическом отношении стран), а во-вторых, с серьезными изменениями, происшедшими с самим отношением к преступности и преступлению, что, в свою очередь, в значительной степени является следствием все того же влияния потребкульта и СМИ.
Сопоставляя отношения людей к слуховым и зрительным впечатлениям, имеет смысл сказать несколько слов о тишине. Если учитывать актуальную музыкальную или, шире, звуковую обстановку в обществе, то вряд ли сегодня можно обнаружить основания для столь популярного в прошлом утверждения, что большинству людей тишина доставляет удовольствие. Сегодня можно говорить об обратном — о том, что тишина, скорее, пугает и вызывает дискомфорт у человека, выросшего в «тотально озвученном», почти постоянно насыщенном самыми разнообразными, в т. ч. и музыкальными, или, точнее, «омузыкаленными», звуками социуме.
Возвращаясь к общей характеристике музыки, отметим, что она представляет собой вид искусства, схема функционирования которого не ограничивается двумя действующими лицами — сочинителем и реципиентом (слушателем), но в обязательном порядке требует еще одного — исполнителя. Безусловно, важнейшей фигурой музыкального искусства остается композитор. Однако на практике более или менее существенную роль в том, состоится ли адекватное восприятие музыкального произведения, или нет, играют не только дарование и мастерство его создателя, но и профессионализм музыканта-интерпретатора и талант слушателя.
Конечно, роль исполнителя важна и в театре, и в кинематографе. Но если текст драматического произведения можно все-таки еще и прочесть, если в кинокартине (как и в театре), кроме актера и его игры, есть еще масса других источников художественной информации и носителей разнообразных смыслов, без принятия во внимание которых о ней как о произведении искусства говорить бессмысленно, то в процессе слушания музыки абсолютно все сосредоточивается на исполнителе. Правда, в данном случае речь идет об абсолютной музыке, поскольку в этом отношении, например, оперный спектакль, музыка программная или написанная к театральным представлениям, к кинофильмам и т. п. занимают положение особое.
Научиться слушать музыку (как и читать литературный текст, созерцать живописное полотно и т. д.) очень трудно, поэтому роль слушателя уникальна. И речь здесь идет о необходимости мобилизации всех его интеллектуальных способностей, об особого рода духовной активности, «помноженной» на эстетическую одаренность, художественную искушенность, жизненный опыт, эмоциональную восприимчивость и т. п. Поэтому музыка и может стать как обладающим практически неограниченными возможностями способом выражения смыслов — идей и чувств (со стороны композитора и исполнителя), так и неисчерпаемым их источником (для того же исполнителя и слушателя).
«Музыка — это предельное проявление духа, утонченнейшая стихия, из которой, как из невидимого ручья, черпают себе пищу потаеннейшие грезы души…»[28], — писал выдающийся представитель романтизма В. Г. Вакенродер.
Содержательное произведение искусства (причем любого его вида) требует от реципиента серьезной духовной работы, интеллектуального напряжения. Французский философ Р. Барт полагал, что «чтение — это языковая работа. Читать значит выявлять смыслы, а выявлять смыслы значит их именовать; но ведь все дело в том, что эти получившие имена смыслы устремляются к другим именам, так что имена начинают перекликаться между собой, группироваться, и эти группировки вновь требуют именования: я именую, отбираю имена, снова именую, и в этом-то, собственно, и заключается жизнь текста: она есть становление посредством номинации, процесс непрерывной аппроксимации, метонимическая работа»[29]. Как представляется, примерно то же самое можно сказать и о музыке, о слушании ее или даже о чтении музыкального текста глазами (на что способны немногие). Таким образом, музыка заставляет или, как минимум, может заставить человека не только чувствовать, но и мыслить.
Рассуждать о преимуществах того или иного вида искусства перед другими, безусловно, бесполезно и даже абсурдно. Но совершенно очевидно и то, что та энергия, которая изначально заложена в музыкальном звучании и которая может быть в нем обнаружена в ходе его восприятия, представляет собой нечто исключительное, не сопоставимое ни с энергией, неоспоримо присущей изобразительному искусству, ни с энергией слова, какой бы вид искусства с его заметным участием мы ни взяли.
«Вид энергии, проявлением которого необходимо считать движение музыки, является интонационной энергией, развертывающейся в звукодвижении»[30], — писал Б. Асафьев. Возможно, именно те преимущества, что были видны многим авторам, писавшим о музыке, и заставили А. Белого задать не предполагающий краткого ответа вопрос: «Не будут ли стремиться все формы искусства все более и более занять место обертонов по отношению к основному тону, т. е. к музыке?»[31]. Очевидно, что за этим вопросом стоит тема, требующая углубленного рассмотрения.
О музыкальной культуре. О чем еще следовало бы сказать во Введении? Наверно, о центральном для настоящей книги феномене — музыкальной культуре. Однако сделать это не так просто, как представляется на первый взгляд. Прежде всего заметим: предполагаемое разъяснение должно опираться на авторское толкование культуры, что серьезным образом усложняет стоящую перед нами задачу. В то же время не следует забывать, что все пять следующих за Введением и насыщенных конкретными примерами глав целиком и полностью посвящены именно ее ― музыкальной культуры ― описанию. И у того, у кого хватит терпения дочитать наш труд до конца, мы надеемся, появится возможность составить собственное представление о предмете нашего интереса.
Во-вторых, не трудно представить себе, что если предельно краткое изложение истории музыкальной культуры заняло у нас столько места, то и более или менее подробное теоретическое ее рассмотрение потребовало бы значительных «площадей», которых в нашем распоряжении, увы, не имеется. Попутно отметим, что определять еще не описанный феномен не менее сложно, чем описывать что-либо без его предварительной дефиниции. В результате у нас остается, вероятно, единственный выход: ограничиться для начала максимально сжатой характеристикой нашего главного «героя», рассчитывая на то, что в дальнейшем последняя будет существенным образом дополнена и расширена.
Итак, понимая культуру как совокупность духовного опыта, накопленного человечеством за всю историю своего существования, мы полагаем, что этот опыт на протяжении нескольких десятков тысячелетий, эту историю составляющих, постоянно и интенсивно опредмечивался, отливаясь в бесконечно разнообразные и к тому же бесконечно изменяющиеся формы. Если изначально они носили «размытый», синкретический характер (о чем подробнее будет сказано в первой главе), то с течением времени стали обретать все бòльшую определенность, индивидуализированность, своеобразие и относительную завершенность, превращаясь в ритуалы, мифологию, философию, религиозные учения, искусство, науку и т. п. ― во всем разнообразии присущих всем им видов, родов, жанров.
Однако абсолютной самостоятельности эти формы никогда не обретали, оставаясь по-прежнему вписанными в общекультуральный процесс и тысячами содержательных связей укорененными в нем. В то же время вокруг них формировались не имеющие четких границ «специализированные» сферы духовной жизни общества, которые могут быть названы философской, религиозной, художественной, научной, политической и т. п. культурой. Свое место среди них заняла и культура музыкальная, чье содержание никак нельзя свести просто к музыке.
Иными словами, музыкальная («специализированная») культура ― это не просто часть некоей целостности ― культуры, состоящей из ряда элементов. Это жизнь общества ― всего человечества, рассмотренная в ее исторической ретроспективе сквозь призму искусства звуков, благодаря чему наблюдателю удается выявлять и отбирать именно те факты, события, процессы, явления, возникновение, существование и функционирование которых с данным видом искусства в той или иной мере связаны. Таким образом, музыкальная культура ― это мир, созданный органичными для нее процессами, событиями, артефактами и скрепленный порожденными ими же отношениями, а его будущее зависит от способности к дальнейшему развитию музыки как его основы.
В силу практической безграничности предмета рассмотрения написание всеобъемлющей истории музыкальной культуры вряд ли возможно, поскольку таковая должна была бы охватить всю историю культуры или даже историю человечества, рассмотрев ее с точки зрения музыки. Поэтому настоящая работа ― это не более чем развернутый набросок грандиозного полотна, а точнее ― лишь части его, от представления о подлинных масштабах которого захватывает дух и кружится голова.
В нашей книге мы попытались показать, что музыкальная культура, являющаяся специфическим, глубоким, идеально-, но лишь гипотетически адекватным отражением/выражением жизни как всего общества, так и отдельного его представителя, может рассматриваться в качестве их же — общества и индивида — сущностной характеристики. В этой своеобразной характеристике, естественно, отсутствуют четкие формулировки и однозначные суждения. Однако, отличаясь удивительной полнотой, содержательностью, чуткостью и точностью в фиксации мельчайших деталей и оттенков происходящего, она в конечном итоге превращается в некую обобщенно-художественную, звуковую картину увиденного и услышанного, помысленного и привидевшегося, прочувствованного и пережитого. В этой картине, постоянно изменяющейся и переливающейся разными красками, перемешаны добро и зло, прекрасное и безобразное, высокое и низкое, истинное и ложное… Разбираться во всех ее хитросплетениях трудно, но, безусловно, интересно и, хотя бы в посильной для каждого из нас степени, возможно.
Нужно только желать — слушать и слышать.
Из главы V
Поиск будущего в фальсифицированном прошлом. История советской музыки представляет собой интереснейший сюжет и не столько в музыкальном, сколько в собственно историческом, а также политическом, социокультурном, социопсихологическом и т. п. отношениях. Начнем с того, что вопрос о принадлежности композиторов именно к советской музыке, не так прост, как кажется. В его решении мы исходим из того, что следует разделять музыку советскую, т. е. соответствующую требованиям коммунистической идеологии и метода социалистического реализма (при всей его неприложимости к музыкальному искусству), и ту, что была создана в советское время, но большей частью находилась под запретом и/или подвергалась уничтожающей критике партийно-государственных органов.
Конечно, можно назвать немало композиторов (помимо выделенных из общего списка Прокофьева, Шостаковича и целого ряда авангардистов ― о них речь впереди), которые стали авторами, как минимум, вызывающих уважение своим профессиональным уровнем опусов. Это и Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874–1956), учитель Мясковского и Прокофьева, основоположник советского балета, советских же азербайджанской и узбекской опер, и Николай Яковлевич Мясковский (1881–1950), патриарх советского симфонизма (27 симфоний), и Юрий Александрович Шапорин (1887–1966), автор высокопатриотичных кантат «На поле Куликовом» и «Сказание о битве за русскую землю», к тому же четверть века писавший оперу «Декабристы», и Виссарион Яковлевич Шебалин (1902–1963), сумевший завершить и отредактировать симфонию М. И. Глинки, оперы М. П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка» и С. С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», и Арам Ильич Хачатурян (1903–1978), прославившийся на весь мир «Танцем с саблями» из музыки балета «Гаяне», посвятивший замечательный концерт для скрипки с оркестром выдающемуся советскому скрипачу Д. Ф. Ойстраху и широко известный во всех республиках СССР благодаря балету «Спартак», и Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987), увертюра к опере «Кола Брюньон» которого исполнялась одним из лучших дирижеров ХХ в. А. Тосканини, и Тихон Николаевич Хренников (1913–2007), чья музыка к кино и драматическим спектаклям покоряла своей мелодичностью и задором, и Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998), мастер вокальных жанров, последний классик русской музыки… Многие из названных музыкантов принимали непосредственное участие в воспитании ряда известных в разное время советских композиторов, в т. ч. и будущих авангардистов. Однако наша главная задача – дать общую характеристику музыкального процесса, растянувшегося на 74 года советской власти.
В самом начале истории советской музыки сложилась довольно интересная ситуация: наиболее авторитетные музыканты либо уже ушли из этого мира, либо после революции уехали из страны. Оставшиеся композиторы «с именами» ― А. К. Глазунов, Н. Я. Мясковский, Р. М. Глиэр, М. М. Ипполитов-Иванов, А. Д. Кастальский, пожалуй, не делали погоды в музыкальной жизни Советской России, где на первый план вышли композиторы-песенники (Д. С. Васильев-Буглай, А. А. Давиденко, братья Покрасс и др.). К тому же уехавший в 1928 г. за границу Глазунов на родину так и не вернулся, а остальные занимали в той или иной мере лояльную по отношению к новой власти позицию (например, Кастальский после дореволюционных сочинений, принадлежавших к духовной музыке, успел за несколько лет жизни в советское время написать хоровые произведения принципиально иной тематики: «Гимн труду», «В. И. Ленину (У гроба)», «Песня про Ленина», «Красная Русь» и др.).
Многие из советских композиторов не имели достаточного образования (и не только музыкального ― вспомним по аналогии поэта Бездомного из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»), зато они являлись «правильными» выразителями новой идеологии. Произведения их в подавляющем большинстве были посвящены событиям и героям революции и Гражданской войны, в них воспевались коммунистические вожди, и прежде всего Ленин и, конечно, Сталин (хотя последний ― только до ХХ съезда КПСС, на котором был «разоблачен» культ личности). В то же время в первые годы после Октябрьской революции неординарные произведения успели создать яркие представители национальных композиторских школ ― например, З. П. Палиашвили (Грузия), А. А. Спендиаров (Армения).
С середины 1930-х гг. советская музыка, можно сказать, обрела два лика: официальный и «теневой». С одной стороны, после нескольких лет фактического отсутствия партийного руководства «порядок» в сфере музыкальной (как и других видов искусства) был, наконец, наведен благодаря созданию «творческих» союзов художников. Официально перед ними ставилась задача объединить всех тех, кто занимался художественным творчеством и разделял коммунистические взгляды. На деле это позволило властям взять процесс функционирования искусства в стране под жесткий контроль. Причем контроль этот осуществлялся людьми, к музыке и искусству часто никакого отношения не имевшими.
Интересно, что это обстоятельство рассматривалось советскими властями как достижение. Так, по воспоминаниям композитора Ф. Е. Козицкого, секретарь ЦК КП(б)У Л. М. Каганович, встречаясь с украинскими музыкантами, с подкупающей простотой сказал: «Я считаю, что вы, советские композиторы, находитесь в лучших условиях, чем ваши коллеги по “могучей кучке”, потому что если у них идеологом был Стасов, то у вас идеологом является вся партия»[32].
За «правильным» использованием метода социалистического реализма, который навязывался композиторам сверху и, даже при всей его условности, не мог быть применен к непрограммной музыке, следили не только чиновники от искусства, вроде Т. Н. Хренникова, но и высшие партийные руководители страны. Пытаясь свести весь музыкальный опыт прошлого к давно отжившим и примитивно понятым нормам и представлениям, они были готовы убить на корню любую художественную инициативу, реализация которой грозила бы поколебать декларированное ими же «творческое единомыслие». Точкой отсчета в окончательном установлении «нового порядка», вероятно, следует считать публикацию в газете «Правда» (1936) ― главном печатном органе коммунистической партии СССР ― редакционной статьи «Сумбур вместо музыки», где возмутительной критике подверглось выдающееся творение Д. Д. Шостаковича опера «Леди Макбет Мценского уезда» (по Н. Лескову).
Своего же пика давление на музыкантов достигло в первые послевоенные годы. После того как ЦК партии большевиков, в первую очередь руками партийного «специалиста» по искусству А. А. Жданова, разделался с журналами «Звезда» и «Ленинград», а затем ― с литераторами М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой, настал черед композиторов (напомним, что «на очереди» была борьба против «безродных космополитов» ― в философии, науке, искусстве). На печально знаменитом Совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 1948 г. Жданов подверг «публичной порке» наиболее талантливых (а следовательно, и наиболее самостоятельных, «непослушных») советских композиторов ― Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, хотя формальным поводом для совещания стало обсуждение мало чем примечательной оперы не слишком известного композитора В. Мурадели «Великая дружба». «Программное» выступление партийного секретаря изобиловало подчеркнуто идеологизированными высказываниями, ничего общего не имевшими с реальностью.
«Что касается современной буржуазной музыки, находящейся в состоянии упадка и деградации, то использовать из нее нечего»[33], ― поучал Жданов собравшихся композиторов. Требуя от них создания высокохудожественных произведений, он с партийной прямотой предлагал им конкретные рецепты достижения успеха: «Музыкальное произведение тем гениальнее… чем большим количеством людей оно признается, чем большее количество людей оно способно вдохновить. Не все доступное гениально, но все подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа»[34].
Боясь показаться недостойным звания советского композитора, Д. Б. Кабалевский (который вскоре напишет музыку к кинофильму «Антон Иванович сердится», зло высмеивавшему «преклоняющихся перед Западом» композиторов-новаторов) признался: «Я убежден, что те указания, которые мы сейчас получили от ЦК партии, помогут мне как следует доделать мою последнюю оперу»[35]. Однако он ошибался, поскольку все его оперы в настоящее время обладают в лучшем случае лишь музейной ценностью.
Чуть ли не каждый из выступавших (пожалуй, за исключением Д. Д. Шостаковича) охотно признавал свою вину, не менее охотно критиковал своих собратьев по музыкальному цеху, в т. ч. крупнейших композиторов современности, и столь же охотно обещал внести в свое творчество радикальные изменения. Попутно один из ведущих советских музыкантов того времени Ю. А. Шапорин (которому самому изрядно досталось от коллег) в пух и прах раскритиковал Р. Вагнера, заявив, что «в его “пореформенных” операх все шиворот-навыворот: то, что должны в опере исполнять голоса, передается в оркестр, и наоборот»[36].
Блестящий пианист и гораздо менее успешный композитор А. Б. Гольденвейзер, не поддержав все-таки Шапорина в его критике Вагнера, также осудил новые веяния в музыке: «После смерти гениальных немецких композиторов Вагнера и Брамса, после смерти Берлиоза, Франка, Гуно, Сен-Санса и более поздних ― Дебюсси и Равеля во Франции, после смерти Верди и, пожалуй, Пуччини в Италии музыкальное искусство всецело захватили “модернисты” ― представители вырождающейся культуры капиталистического общества»[37]. Используя критерии традиционной музыки для оценки достижений модернизма, не пощадил он и атональной музыки: «Сейчас я устал от фальшивых нот. <…> Чувство диссонанса, то есть напряжения, стремящегося в каком-то направлении к своему разрешению, утрачено. Одновременно звучит совершенно несоединимое ― вне всякой гармонической логики»[38].
Каясь, один из главных критикуемых персонажей ― А. Хачатурян ― высказал неудовольствие тем, что «среди части товарищей… бытует вредное представление о том, будто художник опережает эпоху, что современник может его, художника, и не понимать. <…> Я со всей честностью должен сказать, что эти вредные, несоветские настроения среди части композиторов существуют»[39], забыв о том, что в т. ч. и на этих настроениях зиждится вся история искусства.
По большому счету, все подобные высказывания опирались на выраженную В. И. Лениным в беседе с К. Цеткин мысль о том, что «искусство должно принадлежать народу» и быть ему «понятным». Споры с классиками не допускались: в СССР К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин и (до его развенчания) И. Сталин рассматривались как непререкаемые авторитеты по любым вопросам ― философским, политическим, эстетическим, научным и т. д. Хотя (следует это признать) и их (за исключением последнего) взгляды нередко подвергались достаточно произвольным «уточнениям» и корректировкам.
Официально утвержденным лидером в советской музыке был Т. Н. Хренников, много десятилетий возглавлявший Союз композиторов. На упоминавшемся совещании он призывал коллег-композиторов помочь Д. Шостаковичу, включенному им в число «композиторов-формалистов» и даже «композиторов-сановников», писать хорошую музыку. Не ослабевала мракобесная критика со стороны композитора-чиновника и в последующие годы. Уже в период «брежневского застоя», на VI съезде композиторов (1979), он огласил «черный список» из семи имен, в который попали наиболее талантливые молодые музыканты того времени ― так называемая «хренниковская семерка»: С. Губайдуллина, Э. Денисов, А. Кнайфель, В. Суслин, В. Артемов, Д. Смирнов, Е. Фирсова.
Неблаговидную роль сыграл он и в судьбе еще одного талантливейшего композитора с трудной, а точнее сломанной, судьбой ― А. Локшина (1920–1987). Ученик Н. Я. Мясковского, в качестве дипломной работы (1941) представивший симфонию «Цветы зла» (на стихи Ш. Бодлера) для сопрано и большого симфонического оркестра, был изгнан с экзамена и диплом об окончании консерватории получил лишь по ходатайству своего учителя в 1944 г. В 1948 г. (в ходе антисемитской компании, развязанной компартией под лозунгом борьбы с «безродными космополитами») Локшина уволили из консерватории. А ведь его Первую симфонию («Реквием») для хора и оркестра на текст средневековой латинской секвенции «Dies irae» («День гнева») ― музыкальное выражение страданий человека, пережившего эпоху сталинизма, ― Д. Д. Шостакович назвал «гениальной музыкой»!
Ради справедливости следует признать, что исполнительская, и прежде всего инструментальная, школа в советское время добилась значительных успехов. Еще до Великой Отечественной войны заявили о себе такие выдающиеся музыканты, как пианисты В. В. Софроницкий, Э. Г. Гилельс, Г. Р. Гинзбург, Я. И. Зак, Я. В. Флиер, Л. Н. Оборин, скрипачи Д. Ф. Ойстрах, М. И. Фихтенгольц, Б. Э. Гольдштейн, виолончелист С. Н. Кнушевицкий, дирижеры А. Ш. Мелик-Пашаев, Н. Г. Рахлин, Б. Э. Хайкин, Е. А. Мравинский и др.; появилась целая плеяда вокалистов, успешно выступавших в оперных театрах и с камерными концертами. В послевоенные десятилетия стали известны имена дирижеров К. П. Кондрашина, Г. Н. Рождественского, Е. Ф. Светланова, Ю. Х. Темирканова, виолончелистов М. Л. Ростроповича, Н. Г. Гутман, А. А. Князева, пианистов С. Т. Рихтера, С. Г. Нейгауза, В. Д. Ашкенази, Э. К. Вирсаладзе, Н. А. Петрова, М. В. Плетнева, скрипачей Л. Б. Когана, Ю. Г. Ситковецкого, И. С. Безродного, В. В. Третьякова, В. Т. Спивакова и многих др.
В 1991 г. история советской музыки завершилась. И парадоксальным (а на самом деле ― самым естественным) образом выяснилось, что главным достижением музыки 74-летней эпохи стало именно то искусство, свободному развитию которого партийные правители и государственные чиновники чинили всяческие препятствия, которое запрещалось и преследовалось. В первую очередь это музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, а также ряда композиторов-авангардистов, остававшихся верными своим идеалам даже в столь трудное для них время.
Наверх
Примечения
1. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 529.
2. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Часть третья. Система отдельных искусств // Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 282.
3. Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1963. С. 13.
4. Стоковский Л. Музыка для всех нас. С. 15.
5. Сохор А. Н. Музыка // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. Т. 3. М., 1976. Стб. 730, 731.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 92.
7. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Часть третья. Система отдельных искусств // Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 279, 291.
8. Ганслик Э. В конце века // Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т. 2. М., 1982. С. 307.
9. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1986. С. 86.
10. Мазель Л. А. О природе и средствах музыки: теоретический очерк. М., 1991. С. 8.
11. Ганслик Э. О музыкально-прекрасном // Музыкальная эстетика Германии XIX века: В 2 т. Т. 2. С. 292.
12. Сохор А. Н. Музыка // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. Т. 3. М., 1976. Стб. С. 734.
13. Бергсон А. Творческая эволюция. Минск, 1999. С. 152.
14. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. Л., 1963. С. 90.
15. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 23.
16. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. Л., 1963. С. 103.
17. Мазель Л.А. О природе и средствах музыки: теоретический очерк. М., 1991. С. 25.
18. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 184.
19. Адорно Т.В. Введение в социологию музыки // Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. СПб., 1998. С. 99.
20. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 52. М. М. Бахтин имеет в виду данный Парменидом совет не глазеть не осмысляющим увиденное оком и не слушать не пытающимся постичь услышанное слухом.
21. Цит. по: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986. С. 65.
22. Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1963. С. 10, 33.
23. См.: Золтаи Д. Этос и аффект. М., 1977. С. 13.
24. Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1963. С. 59–60.
25. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2006. С. 28.
26. Мазель Л. А. О природе и средствах музыки: теоретический очерк. М., 1991. С. 7.
27. Адорно Т. В. Введение в социологию музыки // Адорно Т. В. Избранное: Социология музыки. СПб., 1998. С. 50.
28. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М, 1977. С. 152-153.
29. Барт Р. S/Z. М., 1994. С. 21.
30. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. Л., 1963. С. 55.
31. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 105.
32. Цит. по: Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). М., 1948. С. 91.
33. Там же. С. 139.
34. Там же. С. 143.
35. Там же. С. 129.
36. Там же. С. 16.
37. Там же. С. 54–55.
38. Там же. С. 55.
39. Там же. С. 35.
Наверх
Copyright © Карен Акопян 2012-2021 Все права защищены
